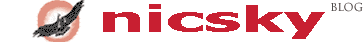Пожар в Зимнем дворце в 1837
РАCСКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ О ПОЖАРЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА В 1837-М ГОДУ
Перевод отрывка из Записок графа A. X. Бенкендорфа за 1837-й год
I.
17-го декабря, в 8 часов вечера, мне дали знать, что загорелся зимний дворец. Я поспешил туда, хотя, зная, что в нем уже издавна приняты все возможные меры предосторожности против огня, не подозревал никакой серьезной опасности. Вверху лестницы государевой половины дымный запах привел меня прямо в Фельдмаршальскую залу. Тут обер-полициймейстер и придворная прислуга доискивались, откуда выходит дым, ежеминутно увеличивавшийся. Прибежал князь Волконский (министр императорского двора), а вслед за ним приехал и Государь из театра, где был с Императрицею. Послали на чердак; но там уже скопился такой густой дым, что нельзя было ни дышать, ни доискаться источника огня. Тогда принялись ломать потолок залы, и огонь вдруг показался из под карниза. При виде опасности, Государь поспешил к своим детям, уже спавшим, и, разбудив их, велел отвезти в Аничкин дворец. Вместе с тем он отдал приказание, чтобы сейчас пришел в зимний дворец занимающий казармы возле него 1-й батальон Преображенского полка; чтобы Павловский полк был также готов явиться по востребованию, и чтобы послали в театр просить Императрицу ехать оттуда не в зимний дворец, а в Аничкин, где она найдет и детей. После этого мы с ним вернулись в Фельдмаршальскую залу
(Здесь Записки графа Бенкендорфа прерываются).
II.
Перевод Французского письма генерал-адъютанта графа А. Ф. Орлова (впоследствии князя и председателя государственного совета) из С.-Петербурга, от 24-го декабря 1837-го года, к нашему послу при Венском дворе, Д. П. Татищеву.
Истекающий год простился с нами самым грустным образом. В ночь на 18/30-е декабря сгорел, в наших глазах, дворец государев, этот зимний дворец, видевший, в продолжение стольких лет, двор наш во всей его пышности, царственный дом во всем его блеске и Россию во всем ее величии.
Зная вашу глубокую преданность Государю и отечеству, легко могу себе представить, какое впечатление произведет на вас это печальное известие. Не стану распространяться о мерах, которые, может быть, следовало принять для предупреждения подобного несчастия, пока было к тому время. Уверяют, что еще за двое суток до катастрофы сильно запахло дымом, и что от оставшейся незамеченною трещины в трубе начали тлеть стены за долго до появления первого пламени. Этим одним можно объяснить причину, почему все вспыхнуло вдруг с такою неимоверною силою. Так ли или иначе, только теперь, когда несчастие уже совершилось, нечего более допытываться о его происхождении. Спешу только заявить вам, что если Провидение поразило нас здесь своим ударом, то вместе с тем подало нам и большое утешение. При этом бедственном событии, Государь наш снова явился таким, каким я всегда видел его во всех самых тяжких обстоятельствах, исполненным твердости и истинного величия души, таким же, каким, двенадцать лет тому назад, 14-го декабря, он был на площади перед Сенатом. По истине, не в дни счастия или каких-нибудь торжеств, а в минуты испытания открывается, как велика наша Россия. Представьте себе дворец в огне, все петербургское население стопившееся на огромных площадях Исакиевской и Адмиралтейской, двадцать тысяч человек старой гвардии в борьбе с таким пожаром, которому никогда не бывало подобного и, не смотря на то, везде стройный порядок, общая безопасность и полное спокойствие. A от чего? От того, что все глаза были устремлены на Государя, от того, что к нему одному все исполнены беспредельным доверием. Он был, можно сказать, повсюду, сам всем руководя и направляя помощь туда, где еще возможно было сопротивление огню. Внимание его, разумеется, преимущественно обращал на себя эрмитаж, которого потеря была бы для нас истинным народным трауром. Единственно распоряжениям Государя мы обязаны спасением этого драгоценного наследия его предков. Я был свидетелем, как он оспаривал у огня то, что мы с гордостью считаем одним из своих великолепнейших памятников России, одною из народных наших слав. Эрмитаж был спасен. Но на всем остальном пространстве дворца огонь продвигался вперед с всесокрушающею быстротою. Фельдмаршальская зала сгорела до тла, залы Белая и Георгиевская обрушились. Государь везде, где только грозила опасность, являлся первым и удалялся только тогда, когда уже не было возможности противустоять стихии. Одну минуту я видел его глубоко растроганным. Это было в большой дворцовой церкви – свидетельнице стольких торжественных событий в его жизни, его бракосочетания, вступления в совершеннолетие его сына. Посреди этих великих воспоминаний сердце его почерпало, казалось, новую уверенность в том, что Промысел Божий осеняет Россию. В ту торжественную минуту, когда, видя неизбежную погибель величественного храма, он приказал снять с его стен образа, все находившиеся тут были тронуты до глубины души благоговейным смирением, выражавшимся во всех чертах нашего монарха.
Около 11-ти часов ночи опасность стала принимать самые ужасавшие размеры. Тогда я счел обязанностью доложить Государю, не нужно ли вынести бумаги из его кабинета, к которому огонь приближался со всех сторон. "У меня нет там никаких бумаг" — отвечал он с дивным хладнокровием: "Я оканчиваю свою работу изо дня в день, и все мои решения и повеления тогда же передаю министрам. Из кабинета остается взять всего только три портфеля, в которых собраны дорогие моему сердцу воспоминания". Вот, любезный друг, как наш Царь понимает свой монарший долг; вот как он правит своею необъятною империею: ничто не откладывается от одного дня на другой, ничто не падает в забвение, и вот каким образом воля одного, бодрствуя над судьбами пятидесяти миллионов, обеспечивает их благо.
В час по полуночи Государь употребил еще последнее усилие для спасения половины Императрицы. Он предполагал для этого пересечь крышу и заложить кирпичом те двери, которые вели из сказанной половины в остальную часть дворца, уже объятую пламенем. По его приказанию, я влез на верх, чтоб удостовериться, в какой мере можно раскрыть крышу. На ней распоряжался генерал Ушаков с батальоном семеновского полка, в самом опасном положении. Очевидно было, что с каждым мгновением оно может сделаться совершенно отчаянным, и потому я поспешил донести Государю, что приведение его мысли в исполнение грозит погибелью множеству людей, без вероятной надежды остановить огонь, раздуваемый порывистым ветром. В виду этих неодолимых трудностей сердце его не могло колебаться: он в ту же минуту приказал прекратить все работы, а батальон с крыши и все остальное войско, занятое еще спасением и выноскою ценных вещей, немедленно собрать и вывести из горящих стен дворца. Сбор людей был произведен в величайшем порядке, и едва верилось тому спокойствию и той тишине и сноровке, с которыми массы старых солдат выпутывались из этого лабиринта галерей, переходов и зал, где всех их ожидала верная могила, если б предусмотрительность их повелителя не положила конец борьбе, становившейся уже напрасною.
Около трех часов утра Государь и сам оставил дворец, чтобы снова перейти в эрмитаж. Видя, какое спокойствие духа он сохраняет среди такого страшного бедствия, я не мог удержаться от сравнения этого случая с другим, совершившимся за два года перед тем, почти на том же самом месте, именно с пожаром, обратившим в пепел деревянный балаган, выстроенный на Адмиралтейской площади для масляничных представлений. Тогда около сотни людей погибло в огне, и Государь немедленно поспешил на место происшествия, для утешения несчастных, извлеченных живыми из дымящихся развалин, и для подания им возможной помощи. Стоя, в глубокой печали, возле остатков балагана, он, как бы сам понес горькую утрату, душою сочувствовал осиротевшим семействам, которые окружали его в рыданиях. Теперь, напротив, перед дворцом своим, сделавшимся жертвою пламени, Государь был вполне владыкою своих чувств и нисколько не казался встревоженным. Он потерял, правда, свое жилище, но по крайней мере ни одно бедное семейство не пострадало от этой потери. Та же самая мысль и то же самое чувство господствовали и в сердцах всех членов Августейшего его дома. Императрица думала только о том, как бы охранить от опасности тех из живших во дворце, которых лета и недуги могли бы в нем задержать и лишить, в общем замешательстве, нужной помощи. Она успокоилась лишь тогда, когда убедилась, что все спасены, и что никто не забыт в этих огромных чертогах, в которых три царствования так радушно призревали под своим кровом старых слуг и честную бедность, словом, в которых три тысячи человек имели себе приют. Великая Княжна Мария Николаевна показала такое же благодушие. «Мне, разумеется, жаль этого прекрасного дворца — говорила она — но еще более было бы жаль, если б сгорело жилище какого-нибудь бедняка». Подобными же чувствами, конечно, руководился и Наследник Цесаревич, когда, при вести, что в тоже самое время вспыхнул другой пожар на Васильевском острову, он покинул зимний дворец в огне и, поспешив на это новое пожарище, успел его остановить.
Вот, любезный Дмитрий Павлович, какова была наша императорская семья в эту тяжкую, но торжественную ночь, воспоминание о которой никогда не изгладится из памяти ее свидетелей. Для довершения моей картины мне остается еще прибавить несколько слов о поведении, при этом грозном зрелище, петербургского населения. Вы знаете, что я не щедр на похвалы народным увлечениям и манифестациям; но в описываемом теперь случае не могу не отдать полной дани уважения тому народному чувству, которое выразилось в массах при вид пылающих царских чертогов. Это чувство было глубоко, единодушно, и высказалось со всею тою силою и живостию, присутствие которых в нашем простонародьи вам не безызвестно. Я мог бы привести тому тысячу доказательств и рассказать тысячу случаев, заслуживающих особого упоминания: довольно будет и нескольких примеров. «За чем — говорили одни — не пустят нас гасить дворец нашего батюшки: мы бы все туда бросились и, вместо лестниц, чтоб лезть на стены, подставили бы наши плечи». «Дворец сгорел — переговаривались между собою другие: — что ж делать! Божия воля; но только бы позволил Государь, так мы выстроим ему три таких же». Вот наша Россия: какая страна, какой народ!
От последних трех месяцев, в течение которых я сопровождал Государя в поездке по значительной части его державы, с севера к югу, у меня накопился богатый запас воспоминаний. В Вознесенске я видел его во главе пятидесяти тысяч человек превосходнейшей в мире кавалерии. У берегов Абхазии я плавал с ним на судне, едва устоявшем против всем известных ужасов Черноморской бури. На крайнем пределе его империи, между Турциею и Персиею, я был свидетелем, как он с бесстрашием доверился конвою из Лезгин и Горцев, будто бы старой своей гвардии. В Гумрах, в Эривани, я слышал слова мира и благоволения, обращенные им к посланникам Султана и Шаха, прежних его врагов, а теперь союзников и друзей. Но нигде, уверяю вас, император Николай не являлся мне в таком величии как в эту роковую ночь, когда он имел силу духа сказать себе, что власть человека, сколько бы она ни была неизмерима, не может бороться против всемогущества Божия; в эту ночь, когда он оставил дворец своих предков без жалоб и ропота, с полною твердостию и христианским смирением, как бы следуя примеру своего незабвенного брата Александра І-го и почерпая в его истории уверенность, что всякое новое испытание, ниспосылаемое Промыслом на Россию, только еще более ее возвеличивает и укрепляет. С помощью Божиею, дворец столицы Петра Великого вскоре снова восстанет из пепла, как, после пожарища 1812-го года, восстали, краше прежнего, Кремлевские чертоги древней нашей Москвы. На первые работы для его возобновления уже ассигнованы нужные суммы, и государство не будет отягощено по этому случаю никакими налогами сверх существующих его доходов. Министр финансов, как бы предваряя общее желание народа, первый предложил все нужные для этого суммы, и таким образом мы неожиданно нашли у самих себя средства на предмет, который, в других краях, потребовал бы издержек чрезвычайных и особенных финансовых мер. Будучи свидетелем происходящего вокруг нас, приходишь к убеждению, что для России нужны, как кажется, именно уроки бедствий и дни печали, чтоб узнать и оценить всю кроющуюся в ней энергию и внутреннюю силу. И сколько бы иностранцы ни старались наблюдать и изучать эту великую страну, им никогда не удастся ее постигнуть: от того, что они не знают, к чему способен народ, полагающийся во всем безусловно на своего Монарха, в уверенности, что никогда и ни в каких обстоятельствах не будет им оставлен.
Сообщаю вам эти размышления, любезный друг, не в виде какой либо для вас новости, а единственно в уверенности, что ваше сердце обрадуется, узнав, что у нас все еще продолжают и, даст Бог, никогда и не перестанут думать и чувствовать по прежнему.
III.
Извлечение из современных донесений Государю Императору государственного секретаря барона Корфа.
17-го Декабря (1837-го) вечером, при первом известии о происшедшем в зимнем дворце пожаре, прибыв на место и видя, что сильный ветер дует по направлению к эрмитажу, в котором помещается Государственный Совет, я пошел в занимаемые им комнаты, откуда, под личным моими надзором, с помощью прибывших чиновников Государственной Канцелярии и вытребованной команды, все текущие дела, книги и пр. были немедленно перенесены в квартиры чиновников, находящиеся за Мойкою. Пока мы распоряжались этим, мне дали знать, что пламя, вопреки всякого чаяния, распространяется против ветра, к стороне дворца, обращенной к Адмиралтейству и грозит опасностию архиву Государственного Совета, этому драгоценному собранию исторических актов и документов, начиная с 1768-го года, помещающемуся (в то время) на большом дворе, над самою главною гауптвахтою. Между тем пробраться туда, через военную цепь и за действовавшею по всем направлениям пожарною командою, уже не было никакой возможности. После нескольких неудачных попыток, мне оставалось основать надежду спасения этих сокровищ на распорядительности хранителя архива, помощника статс-секретаря Леонтьева, и смотрителя сторожевской команды государственной канцелярии Вицковского, отправившихся туда в самом начале пожара с частью этой команды. Действительно, ревностные их усилия и самоотвержение спасли наш драгоценнейший архив в полном составе. Не смотря на то, что пламя свирепствовало еще только на противолежащей стороне, Леонтьев выпросил у военного начальства команду гвардейских солдат и, при помощи их, с 12-го часа ночи до 4-х часов утра, когда огонь уже запылал и над архивом, успел перенести на дворцовую площадь против Салтыковского подъезда все, что хранилось в 69-ти больших шкафах. Наконец, когда дворцовое здание загорелось и со стороны этого подъезда, и когда оттуда начали падать горящие балки, от которых легко могли загореться бумаги, Леонтьев все их, с помощью данной плац-майором другой команды, перенес к 8-ми часам утра, на Адмиралтейскую гауптвахту, где все и было в целости сложено. Шкафы же, столы и прочая мебель, за неимением времени их вынести, остались в прежнем помещении, которое, хотя и не сгорело, потому что было под сводами, но было все засыпано штукатуркою, обвалившеюся с растрескавшихся от жары стен и потолков.
Леонтиев, проведя всю ночь, при немолодых уже летах, то на снегу, то под раскаленными сводами, опасно занемог. Вицковский же и все люди сторожевской команды остались невредимы.
IV.
Извлечение из записки отставного генерал-майора Л. М. Барановича.
(Л. М. Баранович, бывший долгое время строевым офицером, находился после в числе инженеров, назначенных к производству работ по возобновлению зимнего дворца и за тем состоял, до 1845-го года, майором от ворот. По увольнении в отставку, он, в 1857-м году, поднес Государю Императору подробную записку о тех событиях, которых был отчасти свидетелем и участником, обнимающую не только пожар 1837-го года, но и всю историю возобновления дворца. В настоящем извлечении передаются главные факты из этой записки, касающиеся собственно пожара, с значительными сокращениями и переменами в редакции, но с удержанием всего, что есть в рассказе г. Барановича существенного и характеристического).
17-го Декабря 1837-го года шла на большом театре опера с балетом „Баядерка" (Le Dieu et la Baуadère), и в танцах участвовала знаменитая Тальони. Государь, не за долго перед тем возвратившийся в Петербург из продолжительной поездки, присутствовал при представлении со всеми членами своей семьи, и глаза публики были устремлены преимущественно на царскую ложу. Вдруг Государь удалился, вслед за ним исчезли из кресел многие лица, и театр, наполненный в этот вечер еще более обыкновенного, постепенно совсем почти опустел. Быстро разнеслась молва что — горит зимний дворец!
Известно, что это огромное здание, заложенное еще при императрице Анне Иоанновне, было окончено постройкою в 1762-м году. В то время менее нынешнего заботились о предохранительных мерах от огня, и во дворце, хотя и существовали по некоторым капитальным стенам брантмауеры, но сквозные, сделанные арками; а потолочное и кровельное устройство, все деревянное, сложной конструкции, состояло из тесно связанных стропил, балок и перекидных мостов, представлявших обильную пищу огню. Он показался сначала, в 8 часов вечера, из отдушника, проведенного от дымовой трубы между хорами и деревянным сводом залы Петра Великого и оставленного, при перестройке Фельдмаршальской залы в двухэтажную, незаделанным. Эта дымовая труба прилегала весьма близко к деревянной перегородке, и огонь, пробравшись по ней до стропил, тесно связанных с потолочною системою, мгновенно охватил массу, иссушенную семидесятипятью годами, а за тем, по мере обрушения потолков и стропил на паркеты, с яростию стал прокладывать себе дальнейший путь.
Но еще прежде распространения огня, министр императорского двора князь Волконский, при появлении в Фельдмаршальской и Петровской залах дыма, поспешил донести о том Государю, который тотчас и уехал из театра, не предварив впрочем о полученном известии находившихся с ним в ложе. Первым движением Государя, по приезде во дворец, было поспешить на половину младших Великих Князей, которые уже были в постели, и осеня их отцовским благословением, приказать немедленно перевезти в Аничковский дворец. Успокоясь таким образом на счет детей, он, в сопровождении Волконского, прошел ротонду, Концертную залу и большую аванзалу (ныне Николаевскую); но, вступив в малую аванзалу, был уже встречен стремительным потоком огня, проникшим в нее сквозь потолок. Не смотря на явную опасность, Государь с хладнокровным спокойствием пошел отсюда через Фельдмаршальскую и Петровскую залы, первые добычи огня, и наконец вступил в Белую (гербовую). Здесь, казалось, уже не было возможности идти далее: густо клубящий дым занимал дыхание, а карнизы и потолки, по которым вилось пламя, грозили всякую минуту падением; но и в этом критическом положении Государь не потерял присутствия духа: с помощью Божиею он успел благополучно миновать опаснейшие места и вошел в Статс-дамскую (гренадерскую) залу, дивя и пугая своею отважностию спутника своего, министра двора, а также дворцовых слуг и сторожей, которым по пути приказывал следовать за собою, из опасения явной гибели от обрушения потолков и кровель. Достигнув таким образом части дворца, еще нетронутой огнем, и убедясь в возможности спасти из нее по крайней мере движимость особенной ценности, Государь велел полкам преображенскому и павловскому и командам гоф-интендантского ведомства выносить мебель и прочие вещи и складывать на дворцовой площади; а более громоздкие предметы, статуи, вделанные в стены украшения и пр., чтобы не подвергать людей опасности, оставлять на жертву пламени. Толпы солдат со всем жаром преданного усердия бросились в горящее здание и рассыпавшись по разным направлениям, с пренебрежением жизни исторгали из огня, как бы желая показать, что они сильнее его, все что только было возможно; потом, сложив вынесенное вокруг Александровской колоны и в здание Адмиралтейства, они снова торопились на помощь прочим и таким образом появлялись и исчезали с необыкновенною быстротою. Рвение их приходилось скорее умерять, нежели поощрять, и результатом вышло, что все, от драгоценнейшего имущества царского до самых маловажных предметов в комнатах императрицы и даже дворцовой прислуги, вполне было сохранено, и ничто не утратилось. С величайшим благоговением были также вынесены из обеих дворцовых церквей, когда и их прикоснулась пожирающая стихия, церковная утварь и все образа. Тут, осеняя себя знамением креста, смелые дружины, с кликом "с нами Бог", бросались в пламя уже вопреки приказаниям начальства и отрывали от стен святые иконы. Нельзя при этом умолчать о замечательном подвиге рядового 10-го Флотского экипажа Нестора Троянова и столяра гоф-интендантского ведомства Абрама Дорофеева, которые, после спасения их товарищами прочей утвари большой церкви, приметив, на самой вершине загоревшегося уж иконостаса, значительного размера образ Спасителя, не послушались настоятельного запрещения даже подходить туда и, без инструментов, с одною лишь небольшою лестницею, покусились спасти и этот образ. Лестница не доставала до половины вышины иконостаса, но это их не остановило. Цепляясь далее, с сверхъестественною, можно сказать, отвагою, за карнизы и украшения, они, наконец, добрались до своей цели: Троянов снял образ и передал Дорофееву, и оба, хотя обожженные, благополучно спустясь с драгоценною своею ношею, успели отнести ее в безопасное место. Государь, свидетель их подвига, обласкав обоих, велел выдать каждому по 300 рублей и Троянова, сверх того, перевести в гвардию.
Между тем пожар продолжал свирепствовать с возраставшею силою, и никакие человеческие средства уже не могли его не только прекратить, но и остановить. Весь дворец с одного конца до другого представлял пылающее море огня, огромный костер, увлекавший все в своем постепенном падении. Убедясь, что всякое дальнейшее противодействие только угрожает опасностию людям, Государь настоятельно приказал им отступить, и воля его была исполнена с благодарностию к Промыслу за то, что удалось по крайней мере охранить от утраты и повреждения царское имущество. Тут же, по повелению Государя, были поверены команды и, к живой его радости, оказалось, что все люди в них на лицо и невредимы. Оставалось одно: отстоять еще нетронутый огнем эрмитаж с его вековыми сокровищами. Государь, перейдя туда, поручил Великому Князю Михаилу Павловичу распорядиться о закладке кирпичем всех дверей и близь лежащих окон как в главном здании, так и в обоих павильонах. Повеление это было исполнено с неимоверною скоростию и — эрмитаж был спасен!
Императрица, извещенная о всем случившемся и, вместе, о вывозе младших ее детей, уже под конец спектакля, поспешила, не смотря на предварение Государя, сама приехать в зимний дворец. Тут начались для ее чувства новые тревоги. Не погиб ли кто из народа? Где моя Софья Павловна (Фрейлина графиня Голенищева-Кутузова, в то время опасно больная)? спрашивала она в томительном безпокойстве. Ответ Государя, что все спасены, не удовлетворил ее. Она сама пошла в помещение Кутузовой и, осыпав больную материнскими ласками, не покидала ее комнат, пока ее не вывезли из дворца. Только тогда уже, объехав вокруг пылающих своих чертогов, с молитвою ко Всевышнему, она отправилась в Аничкин дворец обнять и благословить своих детей.
Но в минуту сильнейшего развития пожара во дворце, тоже самое несчастие поразило еще и другую местность столицы. В отдаленнейшей ее части, обитаемой преимущественно беднейшим классом, именно в Галерном селении, вспыхнул другой пожар. Государь тотчас велел отделить туда часть пожарной команды, а Наследник Цесаревич сам поспешил к месту нового бедствия. На пути у него сломался экипаж, но истинное чувство находчиво. За коляскою следовал конвойный ездовой, и Цесаревич пересел на его лошадь Пожар, вследствие энергических его распоряжений, был вскоре потушен, а бедным погорельцам, как рассказывали свидетели, при утешениях и ласках молодого первенца царского, "и горе не в горе показалось."
Государь и Великий Князь Михаил Павлович, проведя всю ночь, не смотря на жестокий мороз, в безпрерывной деятельности, оставили пожарище уже только в 11 часов следующего утра.
Развалины дворца продолжали гореть целые трое суток…

V.
Извлечение из современных заметок лейб-гвардии конного полка корнета барона Э. И. Мирбаха (впоследствии Флигель-адютанта и генерала свиты его величества, а ныне тайного советника и шталмейстера Высочайшего двора.)
17-го Декабря, после бывшего в присутствии Государя развода, за который мы удостоились его одобрения, мне следовало вступить во внутренний дворцовый караул, стоявший в Фельдмаршальской зале. С полузамерзшими от 12-ти градусного мороза руками, которыми приходилось держать ножны палаша, чтобы не упасть в глубокий, превратившийся в песок снег Невского Проспекта, я к двум часам добрался с своею командою до дворца, которого главные залы были в то время наполнены рекрутами и солдатами, приведенными из армии для выбора в гвардию. При осмотре и распределении их генералами и приехавшим потом Великим Князем Михаилом Павловичем, мне приказано было стоять ружье у ноги, и только уже после выхода всех этих отрядов из дворца, я улучил минуту спуститься, по темным и грязным коридорам, на главную гауптвахту, чтобы новую форму, в которой являлся на развод, переменить на № 2-й. Между тем было уже 4 часа. Умирая с голоду, я, поднявшись опять к караулу, с жадностию бросился на принесенный с дворцовой кухни обед. За ним последовали обыкновенные наши кирасирские муки: туго натянутые лосинные панталоны, огромные ботфорты, мундир в обтяжку, застегнутый под подбородок воротник — все это причиняло безпрестанные судороги в икрах, боли в боках и приливы крови в голову, так что не знал, бывало, куда деваться. Наконец мне удалось усесться в большие кресла с книгою в руках и кое-как дать себе отдых. Тут, около 8-ми часов, началась мимо меня какая-то учащенная беготня. Хотя фельдмаршальская зала находилась на проходе между коридором князя Волконского и главными апартаментами, но все таки в этой беготне мне показалось что-то необыкновенное. Вдруг около лампы, висевшей на ножке, стал образовываться голубоватый дым, колыхавшийся от сквозного ветра вследствие непрерывной ходьбы людей. Я встал с кресел, чтобы спросить, что это такое? „Даст Бог ничего, отвечал мне старый лакей: дым внизу в лаборатории, где уж два дни как лопнула труба; засунули мочалку и замазали глиною, да какой это порядок! Бревно возле трубы уже раз загоралось, потушили и опять замазали; замазка отвалилась, бревно все тлело, а теперь, помилуй Бог, говорят уж и горит. Дом старой, сухой, сохрани Боже!"
Я перешел, со свечею в руке, на другую оконечность залы, где люди особенно суетились. Здесь, на узком пространстве между зеркальною дверью в коридор Волконского и портретом князя Варшавского, вилась к верху тонкая струя дыма, с сильным запахом гари. Дежурный камер-лакей привел двух солдат гоф-интендантской команды с ломами, чтобы вскрыть паркет перед зеркальною дверью. От нескольких ударов старый пол разлетелся в щепы, и вместе с тем огромная дверь, выскочив из своей рамы, упала в ту сторону, где стояли люди, которые рассыпались с криком "огонь". Желая успокоить работавших, я старался уверить их, что нет никакого огня, и что это только простое отражение моей свечи в зеркале. Однако из всех скважин открывшейся за падением двери стены, уже совсем почерневшей, прорывался если еще не огонь. то черный густой дым, который в несколько мгновений разостлался и по целой зале, препятствуя дыханию. При всем страхе, чтобы нам не задохнуться, мне однако, разумеется не приходило и на мысль позволить кому-либо из солдат, покинуть пост. Я собрал только ближайших к караулу часовых, стал дружески уговаривать всех покориться нашей судьбе, которой и я не избегну вместе с ними, велел присесть на корточки, так как и внизу дым был менее удушлив, и затворить двери в Петровскую и в малую аван-залу.
Между тем, лишь только показался дым, я послал дать знать о том коменданту Мартынову, и теперь, в минуту самую критическую, когда в зале стояла такая мгла, что сквозь нее не видно было даже уже лампы, и люди, одною рукою отмахиваясь от дыма, другою зажимали себе рот, ожидал дальнейших приказаний. Наконец Мартынов приехал из театра, где был при царской фамилии, и при входе в залу, не видя ни чего сквозь дым, закричал: "что, караул еще тут?" по утвердительному же моему ответу велел и, тотчас его вывести. Я скомандовал, кашляя как и весь караул ,,на право, скорым шагом, марш", и поставя людей и ближайшей комнате, малой аван-зале, отбил огни (Тогдашнее техническое выражение для отсчитывания рядов). Все перекрестились. Все мы выстроились, как пробежал мимо нас молодой красавец, лакей Мейер, который меня знал, видя часто в караулах. "Ах, барон, проговорил он на бегу: вам бы убраться с вашей командой, тут скоро потолок провалится: наверху страсть какой огонь!" Несколько минуть спустя, около 9-ти часов, я заслышал из большой аван-залы мерную поступь Государя и звонкий его голос, так врезывавшийся в память. С ним шли Великий Князь Михаил Павлович и Наследник: все в надетых по форме, шляпах и с биноклями в руках, как приехали из театра. Я скомандовал: "смирно, на плечо, глаза на лево". "Что, голубчик спросил Государь — расскажи-ка как это было?" Я в коротких словах передал все случившееся. Он подошел к дверям Фельдмаршальской залы и, при хлынувшем оттуда густом дыме, закричал: "разбить окна". В ту же минуту послышался звук падающих стекол, и пахнувший со двора свежий воздух привел дым в движение. Я стоял в нескольких шагах от моего караула, зрителем происходившего. Ветер со двора произвел сильный сквозняк, и в том месте, где прежде была зеркальная дверь, неожиданно сверкнул огромный огненный змей, в одну минуту , точно молния, осветивший всю залу. Этот змей вспыхивал в несколько приемов, каждый раз с большею силою, и наконец, захватил одну из восьми позолоченных люстр, которая, покачиваясь под сквозным ветром, сгорела медленным огнем. Два маленькие инвалида гоф-интендантской команды вздумали было направить в эту несчастную люстру тоненькую в каких-нибудь полпальца толщины струю воды из ручной трубы; но и та, за сквозняком, проскользала все мимо своей цели. Лежавшая около того же места на поручне облегавших залу хор трехугольная шляпа инвалидного офицера, с коротеньким черным султаном, подверглась, вслед за сгоревшею люстрою, одинаковой с нею участи. Пламя, уже успевшее усилиться, вилось по карнизам и наконец, прорвавшись дверями в смежную Петровскую залу, разом уничтожило в ней бархатные, усыпанные золочеными орлами, обои. Здесь дворцовые гренадеры, спасавшие движимость, хлопотали около вделанного в стену серебряного канделябра, как вдруг одного из них почти совсем засыпало отвалившеюся частию потолка; на другого упала сверху балка, и оба едва спаслись от смерти. Крохотные мои два инвалида перебрались и сюда с своею ручною трубою и старались залить обои: предприятие тем более нелепое, что уже вся зала была охвачена огнем.
Видя возрастающую таким образом опасность и следуя приказанию Государя "держаться по возможности", я перевел караул в Арапскую комнату и отсюда был свидетелем той необыкновенной распорядительности, с которою, в большой аван-зале, генерал-адъютант Клейнмихель, во главе лейб-гвардии Егерского полка, усиливался заградить путь огню выведением кирпичной стены. Солдаты с примерным усердием таскали снизу кирпичи, каждый по три и по четыре, и стена скоро была готова в виде брантмауера, доходившего до самого потолка. Но надежда спасти дворец этою преградою и возведенными, на подобие ей, в трех других еще местах, не удалась: огонь неудержно шел вперед по чердакам, плафонам и оконным рамам. Государь велел мне убрать из Арапской, которой пожар в то время еще не коснулся, стоявшие там штандарты и литавры полков кавалергардского и конно-гвардейского. „Ты — прибавил он — останешься тут с ними и с твоим караулом, пока можно будет, а потом спустишься в коридор". Здесь он при мне рассказал, как был удивлен, когда, подойдя в спальной Императрицы к ее кровати, с намерением спасти брильянты, обыкновенно ею употребляемые, нашел ящик открытым и — пустым. По выражению его лица видно было, сколько это обстоятельство его огорчило, но он не высказал ни одним словом неудовольствия. В нижнем коридоре, куда бушующая стихия скоро меня прогнала, я был встречен исправлявшим должность полкового адъютанта нашей конногвардии Опочининым, который, приняв от меня спасенные из Арапской штандарты и литавры, отвез их, под прикрытием конногвардейского взвода, вместе с прочими, находившимися в зимнем дворце знаменами, в Аничкин. Государь, придя тоже в этот коридор, остановился в дверях, которые вели на большой дворцовый двор. Насупротив, в эту минуту, начала обрушиваться Белая зала, и видно было, как пламя охватывало шнуры занавесок, которые падали вниз и исчезали в огненном море. Все части дворца, обращенные во двор, пылали. "Больно — сказал Государь — видеть разрушение отцовского дома; но с помощью Божиею мы в год снова его поднимем. Дежурный по караулам, лейб-гвардии Финляндского полка полковник Крылов велел моим людям надеть тулупы и кеньги, с чем вместе и я надел шинель. Государь приказал мне поставить в коридоре двух часовых, для охранения утвари, вынесенной из придворной церкви и сваленной в безпорядочные кучи на полу. Другие часовые были расставлены снаружи у Салтыковского подъезда и на пространстве между ним и камином для грения кучеров, куда складывались вещи, выносимые из комнат Императрицы. Картины первейших мастеров, малахитовые коробки, стенные и столовые часы, маленькие бронзовые стулья и множество других, самых разнородных ценных предметов лежало тут, как ни попало, на снегу. Часы с музыкою, приведенные в ход своим падением, заиграли вдруг прелестную арию, в ироническую противоположность с окружавшею сценою. Надо было за всем приглядеть. Суетня происходила страшная: люди, выносившие вещи, были Бог знает кто и, стоя на самом проходе, я крайне боялся, чтоб чего-либо не украли. За час перед тем в моих глазах похитили из пехотной караульни массивный серебряный кофейник. Гвардейский солдат, знакомый с местностию, опрокинул приставленного сторожа и бросился с кофейником на обнятый огнем двор, чтобы прорваться в большие ворота. Одна мера наконец несколько успокоила меня касательно воровства. Для сохранения, среди огромных масс сбежавшегося народа, возможного порядка, от гвардейских полков протянули, во всех направлениях вокруг дворца, густые цепи, через которые не пропускали никого ни взад, ни вперед.
Между тем из дворца, при помощи созванной гвардии, деятельно продолжали выносить вещи. Вся площадь главного штаба была загромождена диванами, столами, стульями. Портреты генеральской галереи 1812-го года, тоже спасенные, бережно сложили у подножия Александровской колонны. Падение телеграфной каланчи над Государевым кабинетом было особенно поразительно: она провалилась во внутрь дворца с таким грохотом, как будто разрушался целый дом. Горько тоже было видеть много драгоценных вещей испорченными или перебитыми, что было неизбежно при быстроте выноски; так например у безподобной статуи Кановы — Парки, прядущей золотую нить, отломлена была рука… Несколько минут спустя после падения телеграфа, я заметил Государя, осторожно пробиравшегося, с приподнятыми полами шинели, между раскиданными на снегу перед дворцом мелочами. "Не знаешь ли — спросил он у меня — где Императрицыны картины?" Я указал на три разные места, где оне были положены. "Пойдем же со мною, дружок, поискать любимую картинку жены (Доминикина)". И вот, при свете пожара, мы отправились вдвоем приподнимать одну картину за другою: искомая нашлась во второй куче. "Прошу же тебя — сказал Государь — велеть отнести эту картинку в Адмиралтейство и там сдать на особое попечение Блоку''. Эта высокая черта супружеской заботливости в такую грозную минуту глубоко меня тронула. С помощью двух из моих кирасиров а сам отнес картину в Адмиралтейство и лично сдал ее на руки Блоку. При возвращении ко дворцу, мне попал на встречу выходивший оттуда обер-полициймейстер Кокошкин, весь почернелый и оборванный: он провалился сквозь обрушившийся под ним пол, и его с трудом высвободили из развилин.
Можно было бы наполнить целую книгу описанием многообразных сцен и впечатлений этой ночи! В одной из зал покойной императрицы Марии Феодоровны, Государь нашел целую толпу гвардейских егерей, силившихся оторвать вделанное в стену огромное зеркало, между тем как вокруг все пылало. При виде явной опасности, он несколько раз приказывал бросить эту работу; но усердие храбрецов и желание их быть полезными брало верх над повиновением: тогда Государь кончил тем, что бросил в зеркало свой бинокль, от которого оно разлетелось в дребезги. "Вы видите. ребята — сказал он — что ваша жизнь для меня дороже зеркала, и прошу сей час же расходиться". Такие черты его рыцарского характера повторялись, в эту злосчастную ночь, на каждом шагу.
Я пробыл на месте до 9-го часа утра, когда уже не оставалось более ничего ни спасать, ни оберегать, и все, чего не успели вынести, сделалось добычею пламени. Затворив за собою двери на Салтыковском подъезде, как будто бы нужно еще было что-нибудь хранить, мы с караулом перешли к Адмиралтейству, где, встретив в сенях коменданта Мартынова, я попросил позволения обогреться моим людям, пробывшим столько часов на морозе и совсем оцепеневшим. "Нет, нельзя, стойте тут", закричал наш, в сущности истинно-добрый и благородный, но крайне суровый комендант. "Да что же нам, ваше превосходительство, тут делать, когда уж больше некого и нечего стеречь?" — „Впрочем, и то правда: ступайте домой". Мы не пошли, а побежали в казармы, и легко вообразить себе, с каким наслаждением я, после всего утомления и всех похождений грозной ночи, бросился на кровать…
Источник: 004 tom_Russkiy arhiv_1865_vip 7-12
Другие Документы эпохи:
-
- Декабриста Баненькова выпустили из одиночной камеры в 1855 году?
- Хитрый план Александра Первого
- Чему учили в школе в конце 18 века
- 1856 год. Развалины Вязьмы
- По поводу отбитых в 1812 году у неприятеля орудий
- Куликовская битва в рисунках
- Екатерина II пишет о своем внуке: новорожденный Николай съедает по две чашки каши в день. Не анекдот ли?
- Александр I Александр II Екатерина II Николай I Павел I Петр I Петр III Царствование Николая I в копилку война 12-го года германская империя двойники двойники императриц долгожители другое дубли идентификация крымская война 1855 курьезы мистика мифы монархи награды и символы подлоги проколы цензуры протоимперия развитие техники реконструкция сражения статистика теория туризм франко-прусская война 1870 хроно цензура